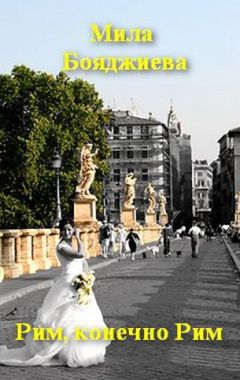— Что?! Я… Ему… Да я не пью! Ни за что!
— За что, за что, девочка. Тысяча баксов за двухминутный эпизод, так только звезд оплачивают.
— Дура! — Я рванулась, пылая негодованием. Но Лидка держала крепко.
— Умоляю! Спаси мою жизнь. — Скользнув вдоль моей юбки, которую на всякий случай не выпускала из рук, Лидия Анатольевна пала на колени.
Через минуту я стояла перед М. М., изучая, по своему обыкновению, его все время куда–то торопящиеся ботинки. Шеф «Круиза» собрался на выход.
— Я подруга Лидии… Сожалею, что испортила вам вечер… Так… так… так получилось, понимаете? — Судорожно сглотнув, я подняла на него молящий взгляд, будто и вправду разрушила его семейное счастье.
— Понимаю… — Он сокрушенно вздохнул. Густые брови скорбно нахмурились, а синь в глазах стала непереносимой — такая красота и такая боль! Мне захотелось поступить по–лидкиному, — кинуться ему в ноги и рыдая, просить прощения…
… — Вам бы отдохнуть, Екатерина Васильевна. — Сообразил сразу же, увидав меня после визита к М. М. отец Никодим. — А лучше бы помолиться…
— Ложь во спасение — это грех?
— Лгать вообще дурно. Вот ведь вам сейчас тяжело? От несправедливости, верно? Ложь — это неизбежное унижение. К спасению всегда есть другой путь.
Я молча кивнула. Обсуждать случившееся не стала, — разве он такое поймет?!
… Петька круто взял меня в оборот. Они решили снимать эпизод в субботу из окна нашей редакции. Фонари яркие, дома старые, место тихое, перекресток, на котором должна стоять я, хорошо просматривается. Да и прогноз блестящий — непрекращающиеся дожди.
Накануне брат принес сумку с реквизитом.
— Давай, гримируйся, птичка. Глазки с блюдце, волосы распустить, сапожки, мини, курточка кожаная нараспашку.
— А это? — Я с удивлением вертела черный бюстгальтер. — Это зачем?
— Говорю: куртка распахнута, под ней белье, — занервничал Петруша. — Так у Барсуковой. Соответствуй. Сейчас начнем.
— Но ведь холодно на улице…
— Мне тоже не жарко по чужим чердакам шастать и за гроши выламываться. Живее, Серж в машине ждет.
… — Вот это да! — Остолбенел, увидев меня, Сергей. — Что ж ты до сих пор молчала?
— О чем?
— Что один к одному — Ким Бессинджер.
… На «съемочной площадке» в рыжем свете фонарей хлестал всамделишный дождь. У тротуаров набухли смачные лужи. Притихли спящие особнячки. Все выглядело тоскливо и вовсе не лирически.
— Здесь чернуху в самый раз снимать, — вздохнул Петруша и, взяв у меня ключи, полез на чердак. Оттуда, наполовину вывалившись из полукруглого окна, с камерой наперевес, установил кадр.
Рафик отметил мое место прилепленным к асфальту листом «Экстра М», поставил в подворотне маг с барсуковской песней — для настроения. Они эту «балладу» раз пять подряд записали. Серж на «девятке» скрылся, чтобы внезапно появиться на моем пути и жестоко промчаться мимо. К нему я ринусь, выпячивая грудь в кружевном бюстгальтере и едва держащуюся на плечах черную «рокерку».
— Дрожишь? — Посочувствовал Раф, прежде чем покинуть кадр. — Хлебни, а то микроба схватишь. — Он протянул мне пластиковую флягу. — Да не бойся, горячий кофе.
У меня действительно дыхание перехватило от жара:
— Коньяк?
— Спирт. Мастерски разведенный самогоном. Еще два глотка без разговоров. Теперь творческий процесс хорошо пойдет.
Рафик исчез. Я осталась одна с непередаваемой легкостью бытия во всем теле, согретом «кофе». Мои длинные влажные волосы, пахнущие дождем, трепал ветер. Любовно ласкала ноги поднимающаяся выше колен лайка узкого голенища. Я чувствовала себя легкой и дерзкой, как улетающая на шабаш ведьма. Я была вечной возлюбленной и портовой девчонкой, знающей что почем, откровенной шлюхой и ведьмой, колдующей на золоте и разбитых сердцах…
Из–за поворота сверкнули фары белого автомобиля, я рванулась навстречу, как на свидание с Единственным счастьем… «Же теме…», — всхлипнула Барсукова на заезженной кассете. Взвизгнули тормоза, посыпалось разбитое стекло, что–то тяжелое шарахнуло меня в бедро и отбросило на тротуар… Холодный асфальт под горящей щекой, разорванная до пояса юбка — хорошо! Я знаю, он изменится, он по–настоящему полюбит меня, глубоко и самозабвенно. Будет сидеть на кухне и следить своими горящими цыганскими глазами, как я жарю ему картошку. Нет! Серж станет знаменитым, не хуже Лелюша, мы поедем в Канны, чтобы забрать золотую пальмовую ветвь… Сквозь опущенные ресницы я видела, как убегали от меня, лежащей под дождем, два автомобиля: белый и темный с желто–красной полоской габаритных огней. Веселые огоньки, как в парке аттракционов, — вначале удаляются, а потом возвращаются вновь…
Я попыталась поднять голову — задним ходом прямо на меня двигался автомобиль. Желто–красная праздничная гирлянда мигала совсем рядом. Хлопнула дверца, кто–то склонился надо мной, наступив сияющими ботинками прямо в лужу.
— Ты как? — Рука осторожно отвела от моего лица мокрые волосы.
— Бьен.
— Встать можешь.
— Сова. — Я села, сжимая идущую кругом голову.
— Какой–то подлец вылетел прямо на меня, разбил фару, попытался удрать, толкнул тебя и смылся. Догонять я его не стал… Попробуй подняться. — Мужчина распахнул дверцу и помог мне принять вертикальное положение.
— Тре бьен! — Пошатнувшись, я рухнула в кресло.
— Голова болит? Едем в Склиф! — Спаситель прижал к моей саднящей щеке носовой платок. Я переместила его к носу — ну что за аромат, — Париж! «Же теме… же теме…».
— Ты здорово набралась.
— Категорически не пью. В больницу ехать отказываюсь.
Я с вызовом повернулась к нему. Непокорные каштановые пряди, подбородок с ямочкой, синие внимательные глаза. И тут я поняла, что пьянство — великолепная штука!
… Отбросив мои мокрые вещи, он укутал меня в свой махровый халат. Жарко потрескивал камин, на столике дымился чай, распространяя восхитительно–лечебный аромат малины. Он сидел рядом, в рубашке с засученными рукавами и болтающейся «бабочкой». Он был похож на того единственного, которого гордая принцесса ждет всю свою жизнь.
— «Же теме…», — бормотала я, не в силах вспомнить ни одного русского слова.
— Насколько я понял твою песенку, — это вольный перевод Пушкинского «Признания»: «Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный. И в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь…», — почти пропел завораживающий баритон.
— Верно… Куда лучше звучит. Какая же я дура…
— Ты «славная девушка, верящая в спасительную ложь. Но ложь — всегда унижение». — Он протянул мне дымящуюся чашку.
— Да… так говорил отец Никодим.
— Кому отец, а кому брат. Я ему по–родственному мансарду под редакцию отдал. Вроде как бы к небесам поближе… А знаешь, что он еще про тебя сказал? — «Таких не соблазняют. На таких женятся.» Сообразительный, а ведь старше всего на пять лет… Да ты чай–то пей. И называй меня, пожалуйста, Мишей. О, кей? — Он закинул ногу на ногу, продемонстрировав совершенно босые ступни.
— А где ботинки? Я их узнала еще там, в луже. Но не поверила. — Я улыбалась, раскачиваясь на волнах сказочного опьянения.
— Верно: ждала дружка, а подвернулся нервный забывчивый тип, оставивший в офисе очень важные для поездки бумаги.
— Знаю, ты в понедельник в Канны летишь. — С мучительным наслаждением я пробовала на вкус это ни с чем не сравнимое короткое «ты». В следующий раз он не узнает меня, столкнувшись у подъезда, а я не решусь оторвать взгляд от его обуви.
— Ботинки промокли. — Приподняв мой подбородок, Миша посмотрел мне в лицо. Время остановилось. Из серого кокона высвободились и расправились радужные бархатистые крылья. Чуть вздрогнули и, описав вольную дугу, они подняли бабочку в солнечный воздух, — я окунулась в синеву его глаз, расцветая от счастья.
— Так значительно лучше. — Оценил он мой внезапный расцвет. — Тебе придется, Катерина, выбрать другие ориентиры, помимо моих ботинок. Во–первых, я не собираюсь ходить по собственному, хоть и ривьерскому, пляжу в обуви. А, во–вторых, … ну, как–то неудобно, когда ослепительная красавица и классная личная переводчица все время смотрит мне под ноги.
Звонок раздался в тот момент, когда она взялась за дверную ручку, собираясь выйти из дома.
— Маргарита Сергеевна? — Коротко и внимательно глянул приличный молодой человек. — Получив утвердительный кивок, он протянул элегантный саквояж, с которым обычно путешествуют дамы, имеющие драгоценности. — Получите.
Она открыла рот, но ничего не успела сказать — лестничная клетка опустела, в руке с короткими, покрытыми телесным лаком ногтями, дрожал баул. Рита сразу поняла, от кого пришло послание: сердце бешено заколотилось, пастушки на старинном гобелене дрогнули и расплылись в сизом тумане.
![Людмила Бояджиева - Сборник рассказов [искусственный сборник]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)